Я сидела на краешке табуретки, глядя на выцветший линолеум, и слушала, как на кухне капает кран. Капля.
Ещё одна. Моя смена в диспетчерской такси закончилась три часа назад.

Двенадцать часов в наушниках, слушая чужой мат, пьяные крики пассажиров и гудки. Я получала двадцать восемь тысяч в месяц.
Олег забирал двадцать «на семейные нужды и ремонт машины». Машины, которая почему-то всегда стояла во дворе со спущенным колесом.
Шестилетний Матвей сидел в углу комнаты и катал по ковру пластмассовый грузовик. Он делал это абсолютно бесшумно.
Нормальные дети гудят, имитируют звук мотора, врезаются в ножки стола. Мой сын научился играть так, чтобы не издавать ни звука. Потому что любой шум раздражал папу.
В замке повернулся ключ, но звук был двойной. Моё дыхание сбилось. Олег пришёл не один.
Он привёл свою мать. Фаина Дмитриевна вплыла в коридор, шумно отряхивая зонт, хотя на улице даже не было дождя.
Это была её привычка — создавать вокруг себя много суеты, чтобы сразу показать, кто здесь хозяйка.
Она скинула туфли и брезгливо пнула мои кроссовки в угол. — Аня! — её голос резанул по ушам. — Почему обувь валяется на проходе?
Олежек после работы пришёл, уставший, а тут споткнуться можно. Я молча встала, подошла к коридору и убрала кроссовки на полку. Олег стоял у зеркала.
Он был бледнее обычного. Руки мелко подрагивали, когда он пытался расстегнуть куртку. От него пахло дешёвым табаком и каким-то животным, липким страхом.
Я тогда не знала, чем пахнет страх должника, но этот запах въелся мне в память навсегда. — Ужинать давайте, — буркнул он, не глядя на меня. — Мать с нами поест.
Я пошла на кухню. На плите стояла сковородка — картошка с мясом, которую я приготовила сразу после смены.
Дешёвая свинина, много лука, чтобы казалось сытнее. Я достала три тарелки.
Руки делали привычную работу, пока голова пыталась понять, что происходит. Олег никогда не приводил Фаину Дмитриевну просто так в будний день.
Ему что-то было нужно. Мы сели за тесный стол. Матвея я посадила у окна, подальше от Олега.
Сын ковырял вилкой картошку, опустив глаза в тарелку. — Мясо жёсткое, — выплюнула Фаина Дмитриевна первую же фразу. — Опять на рынке утиль брала? Олежеку нужно нормально питаться, он кормилец.
Я посмотрела на «кормильца». Он не работал официально уже третий год. Перебивался какими-то шабашками, чинил телефоны, перепродавал запчасти. Жили мы в основном на мою зарплату диспетчера такси.
Но говорить об этом вслух было строжайше запрещено. Однажды я заикнулась — потом неделю замазывала тоналкой скулу. — Нормальное мясо, — тихо сказала я.
Олег бросил вилку. Звон металла о стекло заставил Матвея вздрогнуть. Сын втянул голову в плечи. — Ты как с матерью разговариваешь? — голос мужа был тихим, но в нём уже вибрировала та самая струна. — Олежек, да брось, — театрально вздохнула Фаина Дмитриевна. — Что с неё взять. Ни рожи, ни кожи, ни уважения. Скажи спасибо, что вообще подобрали. Я сжала под столом кулаки.
Ногти впились в ладони. Я копила деньги уже восемь месяцев. В тайном кармане зимнего пальто, которое висело в самом дальнем углу шкафа, лежали сорок тысяч рублей.
По пятьсот, по тысяче, сэкономленные на обедах, утаённые премии от начальницы смены. Мне нужно было ещё хотя бы двадцать, чтобы снять комнату и оплатить первый месяц.
Терпеть оставалось недолго. Нужно было просто промолчать. Но Олег не собирался просто ужинать. Он отодвинул тарелку и посмотрел на меня пустыми, стеклянными глазами. — Аня. Доставай свою заначку. Внутри всё оборвалось. Холодок пробежал по позвоночнику.
Я старалась дышать ровно, глядя в его переносицу. — Какую заначку? У нас до зарплаты три тысячи осталось. Они в кошельке. Олег усмехнулся. Криво, обнажая нижние зубы.
Он медленно встал из-за стола. Фаина Дмитриевна тоже подобралась, её маленькие глазки блестели от предвкушения.
Она всегда любила эти сцены. — Не ври мне, дрянь, — он шагнул ко мне. — Я знаю, что ты крысишь деньги.
Мне пацаны с твоей базы сказали, что диспетчерам на прошлой неделе премию дали. Десятку. Где деньги? — Это на зимние сапоги Матвею, — мой голос дрогнул. Ошибка. Нельзя было оправдываться. — Матвей походит в старых! — рявкнул Олег. — Мне деньги нужны. Срочно. Прямо сейчас.
Неси сюда всё, что спрятала! Он схватил меня за плечо и дёрнул вверх. Табуретка с грохотом упала на линолеум.
Матвей тихонько заскулил в углу, закрывая уши руками. Этот звук сломал что-то внутри меня. Восемь месяцев я была покорной тенью ради того, чтобы накопить на побег. Но видеть, как мой сын сжимается в комок на собственной кухне… — Нет, — сказала я.
Громко и чётко. — Ты не получишь ни копейки. Ты и так прожрал всю мою зарплату. Иди и заработай, если должен кому-то. Олег замер. Он не ожидал такого отпора.
В его глазах мелькнуло искреннее удивление, которое тут же сменилось животной яростью. — Что ты сказала? — прошипел он.
В следующее мгновение произошло то, чего я никак не ожидала от человека, стоящего рядом.
Фаина Дмитриевна резко подскочила ко мне сзади.
Её сухие, цепкие пальцы впились в мои предплечья. Она с силой дёрнула мои руки назад, заставляя грудь выгнуться вперёд.
Хватка у шестидесятилетней женщины оказалась железной. — Учи жену, Олежек! — завизжала она прямо мне в ухо. — Учи эту неблагодарную дрянь! Первый удар пришёлся в челюсть.
Моя голова мотнулась в сторону. Во рту мгновенно появился солёный вкус меди. Я попыталась вырваться, но Фаина Дмитриевна держала намертво, упираясь коленом мне в поясницу.
Второй удар. Третий. По щекам, по скулам. Олег бил наотмашь, тяжело дыша.
Я перестала сопротивляться. Я просто считала. Это был мой способ не сойти с ума. Четвёртый. Пятый. Матвей закричал — громко, срывая голос, перекрывая звук шлепков плоти о плоть. — Мамочка!
Не надо! Папа, не надо! Шестой. Седьмой. Восьмой. Фаина Дмитриевна хохотала. Это был сухой, лающий смех. — Так её, сынуля, так! Будет знать, как мужу перечить!
Пусть знает своё место, нищебродка! Девятый. Десятый. В ушах стоял непрерывный звон.
Комната сузилась до размеров кулака Олега. Одиннадцатый удар пришёлся в нос. Я услышала хруст. Тёплая густая кровь залила губы и подбородок.
Фаина Дмитриевна брезгливо разжала руки, и я рухнула на пол.
Линолеум холодил разбитую щеку. Я видела только ножки стола и крошечные кроссовки Матвея, который подбежал ко мне и вцепился в мою кофту.
Олег тяжело дышал, стоя надо мной. Он потирал ушибленные костяшки пальцев. — Чтобы через десять минут деньги лежали на столе.
Иначе я из тебя всю душу вытрясу, — бросил он и пошёл в комнату. Фаина Дмитриевна поправила причёску, перешагнула через мои ноги и пошла за ним. Я осталась лежать на полу.
Матвей гладил меня по волосам маленькими, дрожащими ладошками. — Мам… мамочка… пойдём отсюда… Я приподнялась на локтях. Кровь капала на старый линолеум, оставляя тёмные круги. В голове пульсировала только одна мысль: это конец.
Прямо сейчас я встану, возьму куртку сына, вытащу свои сорок тысяч из пальто и мы уйдём прямо в ночь.
На вокзал. В гостиницу. Куда угодно. Я посмотрела на настенные часы над плитой. Было 19:42. Из комнаты доносилось приглушённое бормотание свекрови и нервные шаги Олега.
Я вытерла лицо кухонным полотенцем, подхватила Матвея на руки, хотя он был уже тяжёлым, и на ватных ногах пошла в коридор. Шкаф. Пальто. Карман.
Я нащупала тугой свёрток денег. Пальцы перепачкали купюры кровью. Оставалось только обуться. Но руки дрожали так сильно, что я не могла попасть в рукав куртки.
Матвей стоял рядом, тихо всхлипывая и сжимая в руке свой пластмассовый грузовик. Стрелка часов в коридоре сдвинулась. 19:59.
Прошло ровно семнадцать минут с того момента, как Фаина Дмитриевна отпустила мои руки. И в эту секунду в дверь позвонили.
Это был не обычный звонок. Звонили долго, непрерывно, вдавливая кнопку в пластик. А потом начали стучать. Гулко, тяжело.
Так стучат не соседи. Так стучат люди, которые знают, что им обязаны открыть.
Трое чётких, ритмичных ударов. Шаги в комнате мгновенно стихли. Олег высунулся в коридор.
На его лице больше не было ярости. Тот животный страх, с которым он пришёл домой, вернулся, умноженный в тысячу раз.
Он побледнел так, что губы стали синими. — Аня… — прошептал он, глядя на меня умоляющими глазами. — Не открывай. Слышишь?
Не открывай. Скажи, что меня нет. Я посмотрела на свои руки, перемазанные кровью.
На заплаканного Матвея. На Олега, который вдруг превратился из тирана в жалкое, трясущееся существо. В дверь ударили снова.
С такой силой, что посыпалась штукатурка с косяка. — Открывай, Николаич! — раздался из-за двери хриплый мужской бас. — Мы знаем, что ты там.
Машина во дворе. Если сейчас не откроешь, мы дверь вместе с петлями вынесем. Фаина Дмитриевна выглянула из-за спины сына. Её обычная спесь куда-то улетучилась. — Олежек… кто это? — пискнула она.
Я молча подошла к двери. Олег попытался перехватить мою руку, но я посмотрела на него так, что он отдёрнул пальцы.
Я повернула флажок замка и распахнула дверь настежь.
На лестничной клетке стояли трое. Это не были братки из криминальных сериалов в кожаных куртках. Обычные мужики. Один в дутом пуховике, двое других в тёмных рабочих куртках. От них пахло дешёвым автомобильным ароматизатором и сыростью. Они даже не стали толкать меня. Тот, что стоял впереди, просто шагнул через порог, заставив меня отступить.
Его грязные ботинки оставили чёрный влажный след на светлом линолеуме — там, где Фаина Дмитриевна всегда заставляла меня мыть пол с хлоркой дважды в день.
— Ну здравствуй, Олег Николаевич, — спокойно произнёс мужчина в пуховике. Голос у него был ровный, почти скучающий. — Трубки не берём. Дверь не открываем. Думал, до весны в своей конуре отсидишься?
Олег вжался спиной в дверной косяк кухни. Вся его спесь, вся та ярость, с которой он раздавал мне удары пару минут назад, испарилась. Передо мной стоял жалкий, сутулый человек с трясущимися губами.
Фаина Дмитриевна, наконец, обрела дар речи. Она выскочила из-за спины сына, набрав в грудь воздуха, словно собиралась отчитывать школьников.
— Вы кто такие?! — взвизгнула она. — А ну пошли вон из квартиры! Я сейчас полицию вызову! У меня сын — уважаемый человек, вы не имеете права врываться…
Мужчина в пуховике медленно повернул голову и посмотрел на неё. Просто посмотрел, сверху вниз. Фаина Дмитриевна осеклась на полуслове. Её рот так и остался открытым, но звук пропал.
Знаете, как выглядит крах иллюзий? Он не сопровождается спецэффектами. Он выглядит как грязные следы на чистом полу и запах чужого табака в твоей прихожей.
— Твой уважаемый человек, мать, торчит нам миллион двести, — бросил второй визитёр, стряхивая снег с рукава. — За партию запчастей, которую он взял под реализацию и спустил на ставках. Так что полицию можешь вызывать. Только заберут они его, а не нас. Статья за мошенничество.
Олег затравленно посмотрел на меня. Потом на мать. А потом сделал то, от чего меня окончательно затошнило.
— Пацаны… — голос Олега дрогнул, сорвался на петушиный писк. — Пацаны, я всё отдам! У меня жена работает. У неё заначка есть! Аня, дай им деньги! Дай им всё, что есть!
Он ткнул в меня дрожащим пальцем.
Я стояла у шкафа, прижимая к себе Матвея. По моему подбородку всё ещё медленно ползла капля крови, щека горела огнём. В кармане пальто лежали сорок тысяч рублей. Мой билет на свободу. Моя возможность снять хотя бы койку в хостеле и купить сыну еды на первое время.
— У меня сорок тысяч, — тихо сказала я. Мой голос прозвучал чужим, хриплым. — А должен он вам миллион двести.
Олег рванулся ко мне. Лицо его исказилось от паники, глаза выкатились.
— Это не мой долг! — заорал он, брызгая слюной. — Они меня кинули! Подставили с этими запчастями, я вообще не при делах был!
Главный из троих усмехнулся и сделал шаг к Олегу. Тот мгновенно вжался в стену.
— Это ты во всём виновата! — Олег резко развернулся ко мне, сменив тактику. Его трясло. — Если бы ты нормально зарабатывала, если бы не пилила меня каждый день, мне бы не пришлось крутиться с этими запчастями! Ты меня до этого довела! Неси деньги, тварь, это общие долги, мы в браке!
Фаина Дмитриевна, очнувшись от оцепенения, вдруг закивала.
— Да! Да, Аня! Ты жена, ты обязана делить трудности! Отдай им свои деньги, пусть они уйдут! Спаси Олежека! У тебя же есть, ты сама копила!
Я смотрела на женщину, которая пятнадцать минут назад держала мне руки, пока её сын разбивал мне лицо. А теперь она требовала, чтобы я отдала свои последние копейки за его долги.
Удивительно, но страха больше не было. Совсем. Было только бесконечное, ледяное презрение.
Олег вдруг упал на колени. Прямо там, в коридоре, между мной и коллекторами. Он пополз ко мне по линолеуму, цепляясь за подол моей домашней кофты.
— Анечка… Анюта, ну пожалуйста. Ну дай им эти сорок тысяч, чтобы они на счёт положили, чтобы проценты остановили. Я клянусь, Аня, я завтра же пойду на завод. Грузчиком пойду, дворником. Мы всё выплатим. Ты же любишь меня, у нас сын… Аня, они же меня убьют.
Я посмотрела вниз. Мой муж рыдал. Настоящими, крупными слезами, размазывая их по щекам. Он стоял на коленях в луже натёкшей с чужих ботинок воды.
Я молча отцепила его пальцы от своей кофты. Опустилась на корточки рядом с Матвеем, который всё это время стоял абсолютно неподвижно, прижав к груди свой пластмассовый грузовик. Я достала из шкафа его зимнюю куртку, шапку и тёплые ботинки.
— Одевайся, заяц, — сказала я тихо.
— Куда?! — Фаина Дмитриевна рванулась ко мне, но один из мужчин просто выставил руку, перегородив ей путь. — Ты куда собралась?! Ты мужа бросаешь в такой момент?! Да ты не женщина, ты чудовище!
— Я бросаю не мужа. Я оставляю вам вашего сына, Фаина Дмитриевна. Вы же так хотели, чтобы он всегда был с вами. Вот, забирайте. И долги его забирайте. Ваша квартира как раз миллиона два стоит, — я застегнула молнию на куртке Матвея. Мои пальцы больше не дрожали.
Олег вскочил на ноги. В его глазах снова вспыхнула ярость загнанного в угол животного. Он замахнулся на меня кулаком.
— Ах ты сука! Я тебя сейчас…
Он не договорил. Мужчина в пуховике спокойно, без лишних движений, ударил его под дых. Олег крякнул, сложился пополам и снова осел на пол, хватая ртом воздух.
— Семью строить мы тебе не мешаем, Николаич, — равнодушно сказал главный. — Но пока ты нам бабки не вернёшь, руки свои будешь при себе держать. Нам калеки на зоне не нужны.
Я надела своё старое пальто. Проверила карман — свёрток с деньгами был на месте. Взяла свою сумку с документами, которую всегда собирала заранее и прятала под нижним бельём в комоде. Накинула капюшон, чтобы скрыть разбитое лицо.
— Мы пойдём, — сказала я, глядя на мужчин в дверях.
Они молча расступились.
— Мы с детьми не работаем, — бросил тот, что стоял справа. — Иди. Но хату мы пасти будем. Если он решит слинять к тёще — найдём обеих.
— У меня нет мамы, — ответила я. — И мужа у меня больше нет. Ищите его здесь.
Я взяла Матвея за руку и шагнула через порог. В спину мне летели проклятия Фаины Дмитриевны и хриплые стоны Олега. Дверь захлопнулась, отрезая меня от той жизни, в которой я провела последние семь лет.
В подъезде пахло жареной картошкой от соседей и сырой штукатуркой. Я спускалась по лестнице, крепко сжимая маленькую ладошку сына. С каждым этажом звуки скандала в нашей квартире становились всё тише.
Свобода не пахнет розами. Она пахнет морозным воздухом, кровью из разбитого носа и выхлопными газами ночного города.
Мы вышли на улицу. Февральский ветер ударил в лицо, обжигая ссадины на щеках. Я остановилась под тусклым фонарём. У меня было сорок тысяч рублей. Разбитое лицо, с которым меня не пустят ни в одну приличную гостиницу. Шестилетний ребёнок, который молчит уже второй час. И никакой работы завтра, потому что в таком виде на базу диспетчеров меня не пустит охрана.
Матвей дёрнул меня за рукав. — Мам. А мы папу больше не увидим?
Я присела перед ним на корточки, прямо в грязный волгоградский снег. — Нет, родной. Больше не увидим.
Он посмотрел на меня своими серьёзными, совсем не детскими глазами. И вдруг протянул руку в маленькой варежке и вытер мне кровь с подбородка. — И хорошо. Он плохой.
Я обняла его, спрятав лицо в его тёплый шарф, и впервые за этот вечер заплакала. Без звука. Просто горячие слёзы текли по щекам, смешиваясь с кровью и снегом.
Сорок тысяч — это аренда комнаты в коммуналке на окраине за десять, плюс залог, плюс комиссия риелтору, если искать срочно. Останется около пятнадцати тысяч. На еду, проезд и лекарства. Жить на это вдвоём можно ровно месяц. Если варить пустые макароны и покупать самую дешёвую крупу.
Я достала телефон. Экран треснул ещё месяц назад, когда Олег швырнул его в стену за то, что я не сразу ответила на звонок. Батарея показывала двенадцать процентов.
Я открыла приложение для поиска дешёвых хостелов. Адреса, цены, отзывы. Ближайший находился в трёх остановках от нас. Восемьсот рублей за койку в общем номере. С ребёнком туда не пустят.
Нужно было ехать в травмпункт. Зафиксировать побои. Это первый шаг к тому, чтобы при разводе Олег не смог претендовать на то, чтобы Матвей жил с ним. Но если я приеду в травмпункт с ребёнком посреди ночи, врачи обязаны будут вызвать полицию и опеку. Опека увидит мать без жилья, без денег, с разбитым лицом. Риск был слишком велик. Системе плевать, кто прав. Системе важны бумажки.
Мы пошли пешком в сторону круглосуточного кафе на трассе, где иногда обедали наши таксисты.
Кафе «Уют» светилось тусклым жёлтым неоном на обочине трассы. Внутри пахло пережаренным маслом, дешёвым кофе и мокрыми куртками. В этот час здесь сидели только дальнобойщики и таксисты из ночной смены.
Я толкнула тяжёлую пластиковую дверь. Звякнул колокольчик. За угловым столиком сидел Саня — водитель с нашей базы, мужик лет пятидесяти с вечно красными от недосыпа глазами. Он пил чай из пластикового стаканчика и листал ленту в телефоне.
Увидев меня, он поперхнулся. Я знала, как выгляжу. Размазанная по подбородку засохшая кровь, опухшая правая сторона лица, безумный взгляд и ребёнок, вцепившийся в мою руку намертво.
Саня молча встал, подошёл к барной стойке, взял стакан горячего чая, сосиску в тесте и принёс за наш стол.
— Ешь, малой, — он пододвинул еду Матвею. Потом посмотрел на меня. — Опять твой урод?
— Хуже, Саня, — мой голос был похож на шелест наждачной бумаги. — Он должен миллион двести каким-то людям за левые запчасти. Они сейчас у нас в квартире. Выбивают из него долг. Я ушла.
Саня выругался сквозь зубы. Долго, грязно, не стесняясь ребёнка. Матвей даже не моргнул, он просто жевал сосиску, глядя в одну точку на столе.
— Тебе нельзя дома появляться, Анька, — Саня понизил голос, наклонившись ко мне. — Ты в браке? В браке. По закону долги общие. Эти ребята по судам не ходят, они к тебе на базу приедут, нервы мотать начнут. С жены спросить проще, чем с этого куска дерьма. Уезжай. Прямо сегодня. Куда глаза глядят.
Я кивнула. Я и сама это понимала. Мои сорок тысяч в кармане — это не спасение для Волгограда. Это билет в один конец.
Мы думают, что побег — это как в кино: ветер в волосах, решительный взгляд и новая светлая жизнь. Нет. Побег — это когда ты считаешь грязную мелочь на кассе автовокзала в четыре утра, чтобы купить ребёнку бутылку воды и таблетку от укачивания.
Саня довёз нас до вокзала бесплатно. Сунул Матвею в карман тысячу рублей «на конфеты» и уехал, не прощаясь.
Я стояла перед табло расписания. Ближайший рейс, на который хватало денег и где были места прямо сейчас, уходил в Саратов. Семь часов пути. Чужой город, где у меня не было ни одного знакомого лица. Идеально.
Я купила два билета. Откинувшись на жёсткое сиденье старого «Икаруса», я смотрела, как Матвей мгновенно засыпает, свернувшись калачиком под моей курткой. За окном мелькали чёрные поля и редкие фонари. Автобус трясло на кочках.
Моя щека пульсировала тупой болью, но я не могла заставить себя закрыть глаза. Я всё считала в уме. Билеты обошлись в четыре тысячи. Осталось тридцать шесть. Плюс Санина тысяча. На эти деньги нам нужно было снять жильё, купить продукты и дожить до моей первой зарплаты там, где меня никто не ждёт.
Саратов встретил нас серой слякотью и пронизывающим ветром с Волги.
Поиски жилья заняли два дня. Мы ночевали в дешёвом хостеле у вокзала, где пахло хлоркой и перегаром соседей по коридору. На третий день я нашла комнату в коммунальной квартире на окраине Заводского района.
Хозяйка, глуховатая пенсионерка баба Зина, посмотрела на мой синяк, на тихого Матвея, пересчитала восемь тысяч за первый месяц и молча отдала ключи. Никаких договоров. Никаких залогов.
Комната была крошечной, двенадцать квадратов. Обои в цветочек выцвели ещё в девяностых, из окна дуло, а на общей кухне постоянно ругались соседи-алкоголики. Но на нашей двери был крепкий железный засов. В первый же вечер, закрыв его изнутри, я прижалась лбом к холодному дереву и просто дышала. Никто не повернёт ключ снаружи. Никто не вломится пьяным. Никто не замахнётся.
Работу я нашла через две недели. Без местной прописки меня никуда не брали.
Пришлось идти фасовщицей на склад кондитерской фабрики. График два через два, двенадцать часов на ногах, в холодном ангаре. Зарплата — двадцать две тысячи рублей. Меньше, чем в такси, а физического труда в десять раз больше. К концу первой смены я не чувствовала спины, а пальцы в порезах от картонных коробок саднили так, что я не могла застегнуть куртку.
Матвея я устроила к частной няне — женщине из соседнего подъезда, которая брала по двести рублей в день за то, что он сидел у неё на кухне вместе с тремя другими детьми, пока она вязала носки на продажу. В государственный сад нас без регистрации не брали, а очередь туда тянулась на годы.
Бюрократический ад развода растянулся на долгие семь месяцев.
Я отправила документы в Волгоград заказным письмом. Заседания переносили. Олег в суд не являлся. Мировой судья слал запросы, требовал уточнений. Я тратила последние копейки на почтовые переводы и нотариальные копии, стояла в очередях на почте, сжимая в кармане телефон. Я боялась каждого звонка. Боялась, что Олег найдёт меня. Что коллекторы вычислят мой номер.
Но звонок раздался только в октябре. Номер был незнакомый, волгоградский.
Я вышла на улицу из шумного цеха фасовки, ёжась от осеннего холода, и нажала кнопку ответа.
— Аня… Анечка, девочка моя.
Голос Фаины Дмитриевны был неузнаваем. В нём не осталось ни капли той надменной, повелительной стали, которой она резала меня семь лет. Это был надломленный, старческий скулёж.
— Чего вам нужно? — сухо спросила я.
— Аня, не бросай трубку, Христом богом молю! — она всхлипнула. — Ты на развод подала… Мне повестка пришла, Олег же у меня прописан был. Аня, скажи, где он? Ты не знаешь?
Я прислонилась к кирпичной стене склада. В груди стало пусто. — Откуда мне знать? Я его с того вечера не видела.
— Он пропал, Аня, — Фаина Дмитриевна зарыдала в голос, не стесняясь. — Те люди… они на следующий день снова пришли. Угрожали утюгом. Олег им бумаги подписал. Квартиру мою, двушку на Спартановке, за долги переписал на какого-то их человека. Оформляли через дарственную, заставил меня у нотариуса расписаться, кричал, что иначе его убьют.
Она тяжело дышала в трубку. Я молчала. Я помнила её смех, когда Олег ломал мне нос. Помнила её крик: «Учи эту неблагодарную дрянь!».
— Мы продали всё, — продолжала она, захлёбываясь слезами. — Я сейчас на даче живу, в Городище. Отопления нет, печку топлю. А Олег сбежал. Сказал, что поедет в Москву на вахту, деньги зарабатывать, чтобы меня выкупить. И телефон выключил. Уже пятый месяц ни слуху ни духу. Соседка сказала, видела его на вокзале, пьяного, с какими-то бомжами. Аня, умоляю, если он тебе позвонит…
— Если он мне позвонит, Фаина Дмитриевна, — мой голос был ровным, как лёд, — я вызову полицию.
— Как ты можешь?! — её тон на секунду вернул прежнюю злобу, но тут же снова сорвался в жалобный писк. — Он же муж твой! Отец твоего ребёнка! Мы же семья!
— Семья осталась в той луже крови на вашем чистом линолеуме, — сказала я. — Вы сами кричали: «Учи её, сынуля». Вот он и выучился. Выживайте сами.
Я сбросила вызов. Зашла в настройки, внесла номер в чёрный список. Потом вытащила сим-карту из телефона и бросила её в урну у входа на склад. Больше эта ниточка меня ни с кем не связывала.
Спустя месяц пришло официальное решение суда. Развод состоялся. Алименты я даже не стала заявлять — приставы всё равно не найдут человека, который прячется от криминальных долгов в подворотнях, а тратить нервы на бумажки ради мифических двух тысяч рублей я не хотела.
Свобода далась мне страшной ценой.
Мне тридцать пять. Я живу в комнате с обшарпанными обоями, просыпаюсь в пять утра от криков соседей и мою голову над раковиной в общей ванной, потому что душ постоянно сломан.
Матвей стал спокойнее, но травма никуда не ушла. Если кто-то на улице громко кричит или хлопает дверью, мой сын мгновенно закрывает голову руками и приседает. Местный логопед сказала, что это невроз. Нужна долгая работа. Сеанс стоит полторы тысячи. Я откладываю по триста рублей с каждой смены в пустую банку из-под кофе.
Я ношу ту же куртку, в которой сбежала год назад. Я забыла, что такое маникюр, новые духи или посиделки с подругами. По вечерам я варю пустые макароны, щедро поливая их дешёвым кетчупом, а единственную сосиску отдаю сыну.
Моя жизнь — это день сурка. Склад, картонные коробки, запах пыли, холодные руки, комната, уроки с Матвеем, сон.
Иногда по ночам, когда ветер воет в старых рамах, на меня накатывает паника. Страх того, что я не справлюсь. Что заболею и не смогу платить за комнату. Что мы окажемся на улице. В такие моменты я лежу, свернувшись клубком, и кусаю губы до крови, чтобы не завыть в голос.
Но потом я открываю глаза в темноте. Прислушиваюсь.
В коридоре гудит старый холодильник. За стенкой храпит баба Зина. На диване ровно и глубоко дышит мой сын.
Никто не вставит ключ в замочную скважину. Никто не вломится в дверь с перегаром. Никто не замахнётся кулаком. Никто не скажет, что я ничтожество. Тишина в этой комнате — настоящая. Она не звенит от напряжения. Она лечит.
Я сижу у окна в дребезжащем саратовском автобусе. За стеклом мелькают грязные сугробы и серые панельки. Я достаю из кармана свой дешёвый кнопочный телефон, купленный взамен разбитого. Смотрю на чёрный экран.
Нажимаю кнопку питания. Удерживаю её, пока экран не гаснет окончательно.
Я выключаю телефон. Автобус везёт меня на смену. У меня нет денег, нет статуса, нет больших перспектив. Зато у меня есть я сама. Впервые за долгие годы.







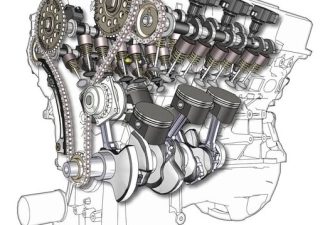







 — Думаешь, она согласится переписать квартиру? — шептала свекровь за стеной. — Поднажми ещё раз, сынок
— Думаешь, она согласится переписать квартиру? — шептала свекровь за стеной. — Поднажми ещё раз, сынок